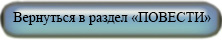
Глава 1
Бидоны, кучей наваленные на тележку, весело отзванивая бесшабашную чечётку, сыпали свою незатейливую музыку в молодой ельник, росший по обеим сторонам тропинки. Возвращалась она оттуда уже переделанная на лесной лад гудением потревоженных шмелей и писком испуганных птах.
Антон, меланхолически покусывая травинку, шел за Славкой, рассеянно следя за тем, как тележка, словно игрушечная, прыгает по кочкам, расплескивая лужицы, оставшиеся на тропинке после вчерашнего ливня. Ощущение покоя не покидало его с утра. Смотря на внушительные габариты брата, на тележку в оковалках его мощных рук, на обмытое майским ливнем ослепительно‑голубое небо, Антон бездумно отдавался этому упоительному чувству. Он понемногу сбрасывал с себя шелуху круговерти большого города, вбирая с густым медвяным воздухом целительную силу, у которой нет названья, но которая с каждым вдохом, он чувствовал это, словно перерождала все его существо.
– Ну и хватанул нас вчера дождичек, – прервал его рефлексии Славка, с удовольствием смакуя это событие. Хотя вчера, когда они, вдрызг мокрые, бежали от автобуса до дачи, он не высказывал таких положительных эмоций, глухо проклиная и матеря этот неожиданно и подло подкравшийся ливень с градом. Зато сегодня Славка благодушествовал. Когда до водоразборной колонки оставалось метров тридцать, Славка обернулся и сказал:
– Кто это там дрыхнет? Смотри, Тош, кажется, Ванька.
Подойдя ближе, Антон увидел лежавшего на скамейке поселкового жителя, бывшего «благодетеля» всех дачников в округе.
…С «начала всех начал», с тех самых перестроечных времен, когда застраиваемые участки под садоводческие товарищества в окрестностях поселка, плодившиеся, как грибы, овладели умом и сердцем поселковых мужиков, Ванька из зачуханного выпивохи превратился в респектабельнейшего пьяницу. Как он сам объяснял эту чудесную метаморфозу, с ним, по сравнению с остальными мужиками, приезжие столичные граждане долго не церемонились, нанимая для свершения строительных таинств. Тут-то Ванька и развернулся. Он не стал, по его выражению, «чесаться задом об топор», а с удивительной ловкостью и проворством превратился в популярного менеджера местного значения. Там, где Ванька подряжался вести дело, самым фантастическим образом появлялись нужные дефицитные материалы, сноровистые, масштабного разворота, бригады шабашников, один вид которых внушал уважение к их деловым качествам. И все это обходилось ошалевшим от счастья дачникам по таким божеским ценам, что вводило в некоторое смущение. Особо любопытствующих Ванька солидно урезонивал: «Не сумневайтесь, мамаша, с вас отчета не возьмут! Все зако-о-он-но!». Реплику он сопровождал таким многозначительным похлопыванием по папочке, удобно размещавшейся у него под мышкой, что умиленная мамаша, расчувствованная до слез, неловко совала в руку благодетеля две-три стандартных емкости с «жидкой валютой», при сем суля новые благодарные пожертвования.
Ванька пожертвования брал. Для всех оставалось тайной за «семью печатями», в том числе и для Антона со Славкой, как и чем этот «дачный мессия» рассчитывался за дефицит материалов и людских ресурсов. Но, так или иначе, Ванькой он оставался недолго. На следующий год, после начала сногсшибательной карьеры Ваньки на подрядном поприще, братья, увидев его, только и смогли произнести оторопелое: «Ива-а-ан!», давя в себе поползновение добавить к этому и еще что-то, приличествующее в обращении к уважаемым людям. Перемена была разительна. Костюм и благородного цвета рубашка (и это в тридцатиградусный солнцепек!), новехонькие туфли и одуряющий запах одеколона вышибли начисто у них былое запанибратство. Славка, ошалело смотря на него в оба глаза, едва смог робко выдавить: «Иван, что это с тобой?..». Ванька был готов к такому эффекту. Он снисходительно усмехнулся: «О-о, пошел чесаться задом об топор! Заходите, мужики, вечером, дам понятное объяснение. Счас дела, недосуг мне. Ну, покедова». Он кивнул и величественно зашагал прочь. Антон и Славка, озадаченно воззрясь друг на друга, с минуту осмысливали происшедшее, но потом смех неудержимо выпер из них, как шампанское из бутылки. Единственное, что они могли сделать, так это сдерживать особо ярые приступы хохота, чтобы этот ходячий монумент не смог услышать их столь бурные проявления восторга...
Как ни устали в тот вечер братья, они все же не смогли побороть в себе страстного любопытства, приволокшись к Ваньке затемно. С выпивкой у них было не густо, всего два «сухаря», но и то, по тем временам, было славно. Но, видно, такова уж судьба – ежели что вывалит, то кучей! Не успели они, войдя в комнату, выставить на стол свое богатство, как Ванька, бывший теперь в «варенках» и потрясающей футболке, смахнув со стола газетные развороты, преподнёс им главный сюрприз с соответствующим гарниром. Во-первых, он был не «надравшись», по случаю наступившего вечера, во-вторых, они увидели на столе нечто невозможное и, в совокупности, невообразимое ранее в таком сочетании. Ванька – трезвый, ну, может, принявший самую малость, стол – на нем две (невероятно!) экспортной «Российской» ноль-семь, закуска!.. – все, что душа горожанина часто возжелает, но, по причине отсутствия предметов вожделения, только пребывает в унылых мечтах.
Огурчики и всё – сплошь молодь ядреная, соленые грибки, да не такие, что с саранчовым аппетитом подметают по лесам истомившиеся по ним дачники и прыткие старики и старушки – базарные души, не оплывшая от ветхости грибная прелость, подаваемая хозяйкой к праздничному столу со снисходительной гордостью, нет! То были перлы природы! А прочего, прочего!.. Сало розовое с чесночным, ароматным духом, капустка-спагетти в ярко-алых брусничных блестках, островок баночной ветчины, по размерам уступающий ну разве что небольшому материку, среди моря тонких кружочков сервелата! Ошалевшие братья, особенно неравнодушный к подобному Славка, щурились на это богатство, не понимая, за что такое им отличие, и только бормоча: «Ну, Вань, ну, убил...», старались не звякнуть принесенным убогим подобием царивших на столе посудин с «божественным нектаром», слезившихся оттаявшей влагой.
Ванька был царственно великодушен. Он даже не заметил сиротской сумочки в руках братьев, а тихонько подталкивая Антона и Славку к столу не говорил, а журчал: «Во, бывает лучшее, эта мы так, завсегда держим! Так сказать, к вечерним мужикам. Сезон идет, во!..».
После первой, после нескольких минут сосредоточенного молчания, почти ритуального по своему торжественному самоуглублению, Ванька, распираемый законной гордостью хлебосола, философски округлил значительность этих минут: «Да-а, мужики!».
А потом, когда Антон и Славка включились в неудержимый конвейер стопок, жевания и глотания, Ванькиного журчания, все протекало так неторопливо и приятно, что слова Ваньки, относительно его поистине восточной роскоши, казались откровением божьим...
«Что здеся главное? Не пропустить! – Ванька хрястнул огурцом. – Слово ба-а-альшого смыслу! Не пропустить мима и не пропустить лишнего. Ну, насчет лишнего, эта лишнее! – Ванька хохотнул, восхитясь своим каламбуром. – Дураку понятно, апасля лишнего никакого дела не сварганишь. Вот!.. А насчет мима, мужики, я вам доложу-у-у... – Он изумленно покрутил головой, мелкими выдохами выталкивая из себя мягко-шипящую букву «к». – Умники, из тех, – он боднул куда-то в сторону кучерявым чубом, – они ж что думают? Хапай бумаженции направо и налево, потом посчитаем! А того не учитывают, дурни оплевые, что с этими бумаженциями потом делать? А? Товару на них не купишь, ежели его нет нигде! То-то! Вот валюта! – он любовно описал над пиршественным столом вилкой, с надетой на нее грибной шляпкой, замысловатый вензель, явно имея в виду водочный экспорт...
«Не-е, ты сам подумай, – обращался раскрасневшийся Ванька к солидному Славке, – рази счас эти бумаженции имеют настоящую цену?».
Он оглядел братьев испытующим взглядом, желая увидеть одобрение своему тонкому умозаключению. Антон со Славкой поняли это и с чувством закивали головами, не имея возможности набитыми ртами выразить вслух свое согласие. Ванька многозначительно цыкнул зубом и сказал совсем буднично и трезво: «Ну, теперя смекайте сами, что из этого следует?».
Разомлевшие братья отказались смекать категорически, сославшись на сложность вопроса. Ванька польщенно кивал кудрявой головой и, выдержав очередную минутную паузу, во время которой дожевывал бутерброд с ветчиной, совместил ее конец с началом «откровения»: – «Му-у-...ки, все просто, как этот стопарь! Брать надо литры! И все! Мякитите? Не-е-т! – довольно оттянул он свое «откровение». – М-да-а, вижу сложности – поясняю. Приходишь к клиенту и договариваешься на дефицит. Они благодарят, естестно, купюрами. Ну, тут надо показать твёрдость и перевести благодарность в нужный момент. Те соображают – и никаких проблем! А как стройка дачи есть сплошняк дефициту – складывается фонд из благодарностей, ну, там, десяток-другой ящиков водки, – другого принципьяльно не беру. Дач много, и обменного дефициту, стало быть, много. Это спервоначалу трудно было развернуться, а пото-о-ом, хе!..».
Ваньку понесло. Антон слушал преподносимые азы менеджерской науки в изложении поселкового гения и дивился, сколь изобретательна бывает корысть людская. А Ванька, загибая пальцы, продолжал считать: «... В-третьих, – никаких тебе очередей, само плывет, в-четвертых, – с этим завсегда с кем угодно договориться можно, в-пятых, – главное! – в наших краях с капиталом из водяры можно такую деньгу настричь! Не мене, как за пару червонцев, а то и за четвертной, – не греши, отдай! Чистая прибыль!..».
Таких пунктов у Ваньки набралось почти на два кулака, которые он сунул Славке под нос, дабы показать ближе очевидность его аргументов. Славка сидел с хитрым видом, уже с трудом вникая в Ванькино красноречие. Но так как снедь, стоявшая на столе, еще не вся исчезла в его могучей утробе, он, с добродушной снисходительностью сытого человека, продолжал поддакивать Ваньке через каждые два слова.
Они не заметили, как за окном легла ночь. "Уставший" Ванька, осоловело начал клевать носом. Антон кивнул брату – тот тряхнул сомлевшего хозяина. Ванька, разобрав, что братья уходят, вызвался их провожать. Когда они вышли на улицу, ярко вызвездившаяся майская ночь набросила на них свое свежее покрывало, сплошь сотканное из стрекотания кузнечиков, одуряющего запаха молодой листвы и еще чего-то такого, к чему никогда, сколько бы ты ни жил на свете, не привыкнешь. Ванька со Славкой закурили перед расставаньем, но не успели как следует затянуться, как их окликнул женский голос: «Ребята, сигаретки не найдется?». Ванька, не вынимая сигареты изо рта, откликнулся: «Любк, ты, что ли? Иди, дадим сигаретку и еще кое-чего!», на что женщина не замедлила отозваться: «Ладно, иду, только потом не жалуйся, петух траченый!». Ванька довольно засмеялся и тихо сказал: «Мужики, это наша торфболотовская фея, не теряйтесь! Тут дело верное, нажмите покрепче – все!».
Из темноты возникла женская фигура. Антон потом вспоминал, как женщина подошла, и под платком он не мог разглядеть ее лица, как потом возникла незлобивая перебранка, но только лишь вспыхнувшая спичка осветила чуть видный профиль, как он вспомнил, что видел где-то эту женщину. Затем долго стояли, и в ход пошла еще одна бутылка водки, которую принес Ванька, а дальше все было смутно. В памяти лишь осталось, как они отправили Ваньку спать, сами шли куда-то, россыпь комплиментов и еще что-то...
Словом, наутро Антон, ворочая раствор и чертыхаясь про себя, едва мог шевелить свое заколодившее тело, которым с трудом управляла трещавшая голова. Славка чувствовал себя не лучше, а потому угрюмо молчал и поминутно бегал пить, промокая себя от обильного пота огромным шматом тряпки. К обеду стало легче, и они стали обмениваться впечатлениями вчерашнего вечера…
Глава 2
…У колонки их опередили. Какая-то местная тётка, шустро вынырнув из подъезда рубленого двухэтажного дома, с огромной бочарой на колесиках, прилаживала ее поудобнее, не очень‑то, видимо, спеша. Славка в сердцах сплюнул:
– Вот черт! Теперь проторчим здесь полчаса, не меньше!
К несчастью, он оказался прав. Вода, ленивой струйкой точась из носика колонки и падая в бездонную пасть теткиной посудины, казалось, проваливается в никуда. Сама же тетка, правильно рассудив, что ее цистерна не окажется без внимания, скрылась в доме.
Антон уселся на бортик тележки и потянулся:
– Ну что, загорать будем?
– Как вон Ванька? – Славка ткнул большим пальцем на противоположную сторону улицы. У дома, на скамейке, стоявшей у палисадного штакетника, вытянувшись во весь рост, храпел экс‑менеджер. Одна его нога свесилась вниз, другую он удобно пристроил, согнув и прислонив к спинке скамейки. По его босым ступням паслись в совершенном довольстве мухи, но это отнюдь не беспокоило Ваньку.
Братья понимающе усмехнулись. Такая исключительная выносливость объяснялась прозаически. Все, видимо, вернулось на круги своя: и ветхая одежонка – заляпанные штаны и неопределенного цвета майка, и богатырский храп, выдававший состояние бывшего «благодетеля», со всей очевидностью говорили, что его сезоны кончились.
Действительно, за прошедшие пять лет все было сооружено, построено, а оставшуюся мелочевку дачники предпочитали доделывать сами. Ванька постепенно исчез из поля зрения, и, хотя братья уже с месяц ездили по воскресным дням на дачу, его они увидели в этом году впервые.
Славка отправился к скамейке:
– Погоди, не трогай его, – крикнул Антон, поняв намерение брата. – Разбудишь, – не отвяжется! Ну его к дьяволу!
Славка остановился и повернулся к Антону:
– Пойду, схожу в магазин, если так. – Он вдруг хитро сощурился, – мимо пойду – зайти, что ли? Привет передам, скажу, что приехал.
– К кому это ты намылился?
– Я? Я в магазин, а если ты насчет привета, то я о Любке. Что‑то не видать давно твоей воздыхательницы. Ну, так как?
– Отвяжись, – с чувством сказал Антон. – Иди, куда шел, да не долго. Я один ворочать не собираюсь!
Он отвернулся и заерзал по бортику тележки, усаживаясь поудобнее. Подставив лицо и грудь благодатным потокам солнечного тепла, он отогревал истосковавшееся по солнцу за долгую зиму тело. Какая‑то ассоциативная, совершенно непонятным образом пришедшая на память мысль, вдруг связала этот майский день с тем далеким, совсем не весенним, распухшим от жары и духоты, днем. В тот день он впервые увидел, то выражению Ваньки, «фею» этого поселка со странным и смешным названием Торфболото...
…– Нет, ты… ик-х-х, мне скажи, я прав?! – с мерной настойчивостью вопрошающе бубнил позади Антона насадившийся до осоловения какой-то корявый мужичок. Все тридцать минут после отправления с автостанции рейсового автобуса, как всегда взятого штурмом, после того, как вломившиеся, потные до безобразия и столь же злые пассажиры, распихавшие по коленям и другим немыслимым местам сумки, рюкзаки и невероятное количество мешков и узелков, приходили в себя, постепенно отходя душой и предоставляя телу страдать в одиночестве от невероятной тесноты и духоты, ибо мысль – «едем, едем» примиряла всех, – этот вечный атрибут автобусных эпопей все надсаживался в своем стремлении опросить всех: «прав он или не прав?».
Мужичок стоял в полутора-двух метрах от Антона, но сильный кисло-едкий запах перегара доставал его тошнотворной струей. Славка, поджав губы, выразительно посматривал в сторону мужичка, обнаруживая свою досаду глухим сопеньем. Там же закипал водоворот страстей: «Да не пхай ты, черт пьяна-а-ай!».
«Уйди, ведьма!». «Куды навалился, хрен вонючий!..».
И вдруг заключительным аккордом все перекрыл истошный женский крик:
«Да заткни ты, стручок морковный, свою пасть! Разит, – сил нет! Ну в чем ты можешь быть еще правым, етит твою глупость?!».
Этого-то и добивался ветхозаветный правдоискатель:
– Ага-ха-а! Значит, я-то не правый?! – возопил он, обрадовано обводя всех глазами. Его победоносно рассиявшая маленькая рожица мгновенно приобрела бойцовый цвет и комично-деловой вид.
– Тэк-с... ты, Любовь, считаешь, ш-ш-то я неправый, а ты, ик-х, права?! Баба!.. – неожиданно, задумчиво-мутным взглядом воззрившись на нее, заключил он с такой проникновенной интонацией, вместившей в себя все изумление, возмущение и еще невесть какие возвышенные чувства, вскипевшие в его благородной душе, что в автобусе все в предвкушении чего-то умолкли, даже рокот мотора стал будто бы тише.
– Курица ты, Любка... двуногая без перьев, значит, ик-х-х... и про тебя древний, о-очень умный чела-эк сказал,.. свиристелка ты ить, и лучшее всего ты свиристишь теми местами, что к сиденью припечатываешь! Что, мужики, прав я али нет?
Бац! Тяжелая сумка Любки, карающим орудием возмездия немедленно опустилась на хлипкую кепочку обличителя ее тайных пороков. Через мгновение она взметнулась вверх, но вознеслась над пустым местом. Там, где находилась кепочка, уже никого не было. Это походило на чудо и несколько поумерило пыл негодовавшей Любки. Стоявшие вокруг пассажиры некоторое время недоуменно смотрели друг на друга, и постепенно в воздухе возникли дельные реплики, советовавшие незадачливой обладательнице сумки посмотреть хорошенько внутри – не там ли ее обидчик?
Недоразуменье разрешилось само собой. Какие-то подозрительные звуки, похожие на довольное хрюканье, прорывались сквозь гул мотора откуда-то снизу. Едва стоявшие вокруг кое-как отжались друг от друга, как им открылась исключительно мирная картина. Мужичок, притулившись к могучему бедру стоявшей рядом тетки, блаженно всхрапывал и даже причмокивал в промежутках мерного сопения. Его ноги сползли по пологому полу почти к ногам Славки и тот, убоявшись повредить своим весом безжизненные члены мужичка, наступив на них во время автобусных маневров, подхватил его под мышки и попытался поставить, но это было столь же безуспешно, как и поставить ртутный столбик. Мужичок, мгновенно сложившись причудливым образом, нырнул на прежнее место и там, устраиваясь поудобнее, уцепился руками за надежную опору, бывшую поблизости.
Этой опорой оказалась нога могучей тетки, которая, взвизгнув от такой дерзости, потребовала убрать его столь категорически, что враз посерьезневшие мужики подняли бесчувственное тело бедолаги, и он символическим штандартом проплыл в конец автобуса, где обрел ложе на наваленных грудой мешках и узлах. «Притомился Софроныч», – неким подобием поминального слова произнес кто-то, и вновь воцарившаяся тишина сонно окутала истомленных пассажиров.
В пути они постепенно выходили, и к поселку осталась едва треть горемычных страдальцев. Антон и Славка заняли места поближе к окну и огляделись. Софроныча среди оставшихся не было, но объект его красноречия – Любка – сидела впереди, держа перед собой две огромные сумки. Антон скользнул взглядом по ее выпирающим лопаткам, обтянутым простеньким ситчиком, и уставился в окно. За ним замелькали знакомые пейзажи, и Антон ткнул кемарившего Славку:
– Слав, вставай, приехали!
Раскрасневшийся и заспанный Славка шально повел глазами:
– Ох, спать хочется!
– Ночью, ночью, а сейчас бери колясочку, твоя очередь. Разомнешься – легче станет.
Автобус качнулся к обочине и заскрипел дверьми. Антон пропустил выходившего брата и выпрыгнул следом сам, но отойти не успел:
– Ой, парень, подержи, пожалуйста, сумку.
Антон обернулся. В дверях автобуса, тщетно пытаясь пропихнуть свою поклажу, застряла их попутчица Любка. Она протягивала ему сумку. Антон перехватил ее, поставил на землю и взял из ее рук еще одну. Любка запротестовала:
– Да я сама.
Антон не стал возражать:
– Ну ладно, только руку давайте, не то вывалитесь.
Он подхватил ее под локоть. Она соскочила с подножки нетерпеливо дергавшегося автобуса.
– Тяжеленько будет с таким багажом идти. Давайте сумку, помогу до поворота, – любезно предложил Антон.
– Не, не надо. Меня встретят.
– Как знаете.
Люба засмеялась чуть хрипловато и негромко:
– Встретят меня, чего вам руки-то обрывать.
С той стороны дороги донесся нетерпеливый крик Славки:
– Чего ты там застрял? Пошли быстрее!
– Идите, идите, – поддакнула Люба. – Ваш приятель сердится.
– Ничего, ему полезно, до свидания.
– До свидания, если не шутите.
Она стояла, чуть откинувшись, и с веселой насмешливой улыбкой смотрела на Антона блестящими глазами, – вот только сигаретки у вас не найдется?
Антон развел руками.
– Увы, не курю.
– Ну, тогда пока...
Антон махнул рукой, отгоняя от себя назойливую муху: «Интересно, неужели тогда началась эта бодяга? Как сказал Славка: «глаз положила». Любопытно. Кажется, мы встречались после этого всего раз пять‑шесть – в автобусе туда‑сюда, да у колонки, и кроме «здрасте» никаких намеков на общение. М‑да! Нет, все в тот чертов день закрутилась эта карусель»...
Глава 3
Никаких планов на ноябрьские праздники у Антона не было, и чтобы избежать напрасных словопрений, которыми мать непременно угощала каждый раз, когда ему приходилось проводить у нее праздник, а сейчас именно такой случай и предвиделся, он решил поехать на дачу – укрыть посадки. Дел на даче всегда хватало, и Антон уговорил поехать брата. Как тот не отнекивался, но предпраздничным утром они уже были в Егорьевске, на автобусной станции.
Чтобы скоротать время до отправления поселкового автобуса, братья зашли в станционное кафе. В противоположность многим, которые повидал Антон, кафе выглядело чистым и уютным. Может быть, это обстоятельство и подвигло их к искушению немедленно опробовать одну из бутылок вина, которые они взяли с собой. В кафе было пусто, и братья могли без помех и опасений осуществить свое, совсем не безопасное в других местах, мероприятие. Приготовления не заняли много времени. Славка, поглядывая на Антона, наполнил стаканы и, зябко передернув плечами, сказал:
– С праздником тебя, Дмитрич!
Не дожидаясь Антона, одним махом осушил стакан и принялся за бульон, шумно сопя носом, добавляя ртом прочие звуки. Антону есть не очень хотелось, и он, выпив вино, с улыбкой смотрел на брата. Славка споро опорожнил тарелку, отставил ее и, поймав на себе взгляд Антона, спросил:
– Что улыбаешься? Наливал бы лучше, не то выдохнется.
Антон не успел даже взяться за бутылку, как услышал сбоку знакомый голос:
– Мальчики, здравствуйте! С наступающим вас!
Он повернул голову и узнал в стоящей рядом женщине Любу. На ней было блекло-голубое платье и бывший когда-то белым фартук, из кармана которого торчала совсем уж неопределенного цвета тряпка. Люба, перехватив под локтем одну руку другой, весьма серьезным тоном потребовала:
– Тарелки давайте, не то заглядели до дыр. Работаю я тут посудомойкой, если что неясно, – ясно?
Братья согласно кивнули, и Антон сказал: – Вот оно что! А мы головы сломали, гадая, куда это наша попутчица так часто ездит с нами? Как мы в посёлок – она тут как тут, мы с дачи – и она за нами. Прямо слежка форменная. Я грешным делом думал, не натворили ли мы чего ненароком, что приставили за нами приглядывать такую очаровательную детектившу. А оно все как просто оказалось,
– с примесью деланной горечи закончил Антон свою тираду. Люба поджала губы:
– Некогда мне тут с вами!
Ее слова странным образом контрастировали с гулкой пустотой зала. Славка немедленно отметил это обстоятельство и деловито предложил, тряхнув бутылкой:
– Будешь? В честь праздничка? Тащи стакан.
Люба не заставила себя ждать, и остаток вина вылили ей. Остаток вышел полновесным, и братьям пришлось заверять отнекивающуюся Любу, что они уже хорошо «махнули». Ее форс быстро прошел, и вскоре слегка порозовевшие впалые щеки Любы отметили своим цветом щедрость братьев.
– Так вы дачу строите? – спросила она немного погодя, и притворно-непонимающе добавила: – А я думала, вы за грибами или за ягодами ездите. У нас-то их пропасть, вот и повадились всяк кому не лень. Житья в поселке не стало. Что там грибы да ягоды – хлеба в магазине и то не купишь из-за дачников!
– Так уж вас и объели, – хмыкнул Славка. – Как к нам в Москву, так с мешками, а как мы у вас что, – так из-за угла этими же мешками, из которых булыжник забыли вынуть!
– Какой булыжник?
– А такой! Это я так, к слову.
– Мы люди другого толка, – вмешался Антон. – Строим мы не дачу, а зимний дом, чтобы жить здесь как можно чаще. Так что считайте нас своими, поселковыми. Колбаску с хлебом с собой возим, а до ягод с грибами мы небольшие охотники, – слукавил Антон. – Вот так!
– Что, столица надоела? – Люба открошила кусок кекса и неспешно катала его языком во рту.
– Вот уж нет, – протянул Антон, – всех причин сразу и не назовешь, а вообще-то у меня так сложились обстоятельства. Я бы сказал, семейные.
– Что так?
– А у него идиосинкразия, – усмехнулся Славка. Он откинулся на спинку стула и толстыми пальцами барабанил то столу, явно выражая какое-то нетерпение.
– Бог мой, ну зачем же так ругаться, Слав? – Антон кинул на брата укоризненный взгляд. – Люба подумает еще, что мы с тобой охламоны какие-нибудь!
– Любочка, да ты не слушай его! У него полная несовместимость на психологической почве с его бывшей супругой. Живут они в одном конурятнике. Антон спит и видит, как бы отстроить поскорее дом, чтобы жить там, а в Москве появляться отметиться из-за прописки. А вообще-то, – подытожил Славка, – соловья баснями не кормят, в данном случае не поят, Антон, ты как считаешь?
Антон понял братнин настрой и в тон ему протянул:
– Да-а, маненько опережаем события, да что с тобой поделаешь! Праздник в хорошей компании – дело рук самой компании, особенно в присутствии прекрасных дам. – Антон даже не поморщился, выдав эту фразу. Вино сделало свое дело, и для Антона вся эта ситуация приобрела характер разудалой оперетки. В таких случаях он моментально становился в отработанную позу, и его гипертрофированная фантазия не знала никакого удержу. Самым скверным было то, что при последующих встречах с теми, кому он накануне, или третьего дня, либо с месяц назад, наговорил кучу самых серьезных вещей, не имея ни малейшего желания, а равно и возможностей, осуществить обещания, если таковые были.
Он-то сам знал, что за этим кроется. Не было в его разговорах намеренной лжи. Антон понимал такое общение за питейным столом как светскую беседу, как легкую, ни к чему не обязывающую словесную развлекаловку. Но собеседники, к прискорбию, воспринимали все три короба его информации вполне серьезно. И тогда случались неприятности, чего греха таить, иногда весьма огорчительные. Но, как говорят, «старую собаку новым фокусам не выучишь», а посему, раз перед Антоном были слушатели, то он, привычно входя в роль, утолял свою ненасытную страсть краснобая.
Люба, держа в руках недопитый стакан, в который Славка, не скупясь, налил доверху из второй бутылки, медленно кивала головой, соглашаясь с убедительной речью Антона. Наконец Славке надоело молчать, и он спросил, обращаясь к Любе:
– А куда ты своего мужа дела?
– Я? Мужа? – словно очнувшись, переспросила она. – Мужа я своего утопила. – Люба усмехнулась. – Не боись, в этом и утопила. – Она щелкнула пальцем по бутылке. – Спился, голубчик. А уж так жрать был эту ханку горазд!
– Ты тоже, как посмотрю, не хило заливаешь.
– Ну! Школа! – в тон Славке бросила Люба. – Вместе потребляли. Вот и осталось мне в наследство от покойничка, царствие ему небесное, привычка, да дом – покати шаром.
– Дом? А где же?
– Всё там же, в поселке в родимом. Серёня на заводишке работал, а дом свой имел. Квартиру предлагали, но мы отказались. Огород оставался далеко, а если честно – четыре комнаты на две клетушки менять не хотелось. Вот теперь и кукую в четырехкомнатном тереме, век бы его не видать!
Непродолжительное молчание нарушил Антон:
– А поделиться своим счастьем не хочешь?
– Как это?
– Очень просто – сдать кому-нибудь пару комнатенок.
– Ко-о-о-му?! Если только собакам бродячим под конуру! – Люба крутнула головой, отчего ее коротко стриженные волосы растрепались еще больше, приобретя вид наимоднейшей прически.
– Да хоть бы и мне, – Антон отпил из стакана. – Я так думаю: дачу мы не выстроим и за два года, ездить сюда недешево и долгонько. Вот я и поселился бы у тебя, время-деньги сэкономил бы в оплату за комнату, верно, Слав? Дорого не возьмешь?
Набросав вопросов, Антон допил остаток в стакане и сунул в рот котлету, запеченную в тесте.
– А что, Дмитрич, дело говоришь! С работой у тебя элементарно – хоть в Егорьевске, хоть в поселке. – Славка утвердительно агакнул и ткнул Антона ногой под столом, дескать, «дуй дальше». Антон стал «дуть» дальше:
– Ты, Люба, подумай сама. Два сезона – с ранней весны по ноябрь я железно кантуюсь здесь. И тебе прямая выгода, и мне. Ты женщина хозяйственная, я мужик спокойный, к холостяцкой жизни приученный. Глядишь – и отличный получился бы симбиоз. Недоверчивый скепсис, поначалу разлитый по лицу Любы, постепенно менялся на какое-то подобие заинтересованности.
– Хм! Это надо обмозговать! Завтра будете в поселке?
– А как же, – хором ответили братья, – затем и едем.
– Вот и подходите. От колонки пойдете дальше до проулочка, через три дома мой будет. В общем, спросишь – покажут. А сейчас бегите на автобус – не то опоздаете.
– Ах черт, и верно! Ну, пока, Любочка! – Славка, на ходу засовывая в сумку бутылку и сверток со снедью, поспешно выскочил из кафе, догоняя Антона. Люба посмотрела им вслед. Прерывисто вздохнув, махнула пару раз тряпкой по столу, собрала тарелки и, уложив в них стаканы, неторопливо пошла на мойку.
Глава 4
День только начинался. Люба бездумно выполняла привычную работу, двигаясь, как автомат, чем вызвала недоумение толстой Верки. «Не допила?» – кратко спросила она Любу. «Наверно», – ответила та в тон Верке, на что Верка назидательно заметила: «Всякое дело надо доводить до конца! – и предложила:
«Я мигом слетаю к Кольке, пока покрутись одна. Надо к обеду припасти пару пузырей». Верка тут же исчезла, а Люба, механически сделав еще что-то, вдруг опустилась на стул, словно в ней кончился завод. «Как он там сказал – симбиоз? Ну, ладно, пусть будет этот симбиоз. Он, видно, знающий, но слово какое-то противное… Чего это они расщедрились? Странные они...».
Люба, невидящими глазами, глядя на льющуюся в поддон струю кипятка, отрешенно, как бы со стороны, наблюдала за ней. В голове одна за другой тягуче возились обрывки мыслей, возникая из ничего, из бездонной темной пустоты:
«Зря. Хлопот с ним... я одна привыкла… Ему условия... то-се. Дверь с черного хода надо отбить... интересный он. Совсем не такой, как егорьевские. Что-то… в нём чужое». Ее неприятно кольнула давно просившаяся мысль: «А где брать мебель? Не знаю. Сам пусть...»
Вечером, сидя в автобусе, она никак не могла припомнить этот день целиком. Сплошное мельтешение ─ обрыдшая посуда, Верка, Колька с какими–то мужиками, обычные, принятые впопыхах, стаканы вина в редких промежутках отдыха от переворошенной горы вилок, ложек, тарелок, противно-скользких и оттого непослушных в уставших руках, гудящих от напряжения и суставной ломоты. Только одно она помнила ясно и отчетливо, как яркий блик солнца – сегодняшнее утро и глядящие на нее добрые волнующие глаза Антона.
Приехав домой, она не стала ужинать. Отмахнувшись от кота, принявшегося отирать ее ноги, Люба на пределе сил сняла платье и, не надевая ночной рубашки, упала на постель. И тотчас же ее накрыл плотный, как душное тяжелое покрывало, сон.
Проснулась она поздно. Солнце высвечивало на занавесках яркий квадрат окна. «День будет хороший! Настоящий, праздничный», – подумала Люба и решила еще полежать в постели, благо на сегодня пришелся выходной. «Удачно совпало! Девки там сейчас, небось, икру мечут! – вспомнила она кафе. – Все семейные, а сидеть, хоть и народу сегодня в кафе наберется едва ли полторы калеки, надо до пяти».
Люба потянулась и потревоженный кот, недовольно муркнув, спрыгнул на пол. Она следила за тем, как он направился в свой угол и, потыкавшись носом, разочарованно отошел от пустого блюдца. «Изверги! не дадут полежать! Все бы им жрать да жрать!» – думала Люба, смотря в зеленые голодные глаза Малыша. А со двора, тонко подскуливая, уже скреблась в дверь собака. Люба встала, надела халат, умылась и, тронув гребнем волосы, вышла в сени. В ведре, где она держала воду, было пусто. «Надо сходить».
Люба взяла ведро и, как была в халате, не одеваясь, выглянула на улицу. Несмотря на распогодившееся солнечное утро, прохлада поздней осени заставила ее поежиться. Люба вернулась в дом и, накинув пальто, невзначай бросила на себя взгляд в зеркало. «Господи, до чего же худющая», – подумала она про себя, как про другого человека. Смотрело на неё оттуда усталое, смятое морщинками лицо тридцатилетней бабы. Смазался, потускнел цвет её когда-то зелёных, с изумрудными искорками глаз, из-за которых, да ещё из-за зелёненького платьица, прилепила Тонька к ней в детстве прозвище. Углядела как-то её смешливая подружка картинку в сказках и подпись к ней: «Лесная фея», с тех пор и бегали, дразнились: «Фея, лесная фея!..». Ну и что? Ей нравилось... «Конечно, так пить и курить! Надо завязать со всем этим! – Подумала и усмехнулась нелепости своих слов. – Немыслимо, просто невозможно…».
Уже выйдя с ведром на улицу, Люба недоуменно соображала, с чего б это ей взбрело в голову: «Как он смотрел на меня вчера... Гм! Ну и что? Пьяница я. Ему хорошо. Он мужик… – Люба на мгновение запнулась, – ...мужчина, и образован как! А я что? Его бы в нашу дыру – тоже, небось, запил бы! Чего это я так всполошилась? Не все ли равно? – наплевать и забыть!». Думать-то она так думала, но там, в самой глубине души, беспокоя и лишая привычного равновесия, ворошился тяжелый комочек непонятного чувства. Она никак не могла разобраться в своих ощущениях, но что-то подсказывало ей, что той размеренной привычной жизни уже никогда не будет. «А! Блажь все это!».
Люба тряхнула головой и посмотрела вперед, где слышались женские голоса. Там, на скамейке у Ванькиного дома, сидели три женщины в пальто и нарядных платках и смотрели, как Ванька пристраивает на угол дома флаг. У него что-то не получалось, и женщины наперебой подавали ему советы: «Вань, Ваня, похмелись поди! Держи портки, Иван, слышь, сейчас свалятся!.. Вань, тебе пособить?». Соседка Любы, Антонина, прибавляя непечатное, злила Ваньку. Но тот, отвечая: «Поди и ты туда же», упрямо ворочал непослушными пальцами, завязывая узел веревки.
Увидев Любу, все трое загалдели еще больше: «Люб, поди сюда, посиди. Иван сейчас управится и в честь праздничка угостит. Верно, Ваня?». Ванька, довольный тем, что справился, спускался с лестницы и на все отвечал гмыканьем. Однако, спустившись, не ушел домой, а подойдя к скамейке, уселся рядом с Антониной и весело сказал:
– Ну, пошла чесаться задом об топор! Давай-ка лучше подымим. Антонина охотно ответила:
– Подыми, Ваня, подыми! В самый раз сообразишь, что не отвертишься, а то после вчерашнего соображалка заедает. Верно, бабоньки?
Бабы тут же разом поддакнули: – Все, Ваня, влип ты... Все одно, по стаканчику, в честь праздничка... не обеднеешь! – Ванька упрямо отмалчивался. Докурив сигарету, стрельнул бычком и сказал, как будто ничего не слышал:
– Замерз я, бабцы, чего-то! Тонька меня греть не желает! Пойду сам греться.
– Ишь ты, так я тебя и пустила! – Антонина вскочила и с размаху бухнулась
Ваньке на колени.
– Кому Ванька, а кому Иван Федосеевич! – Ванька обиженно спихнул Антонину. Бабы, видя, что Ванька не поддается, начали остывать. Одна Антонина, подзадоривая их, не сдавалась:
– Какой же ты мужик, если не хочешь женщин уважить. Смотри, вон Люба совсем окоченела под своим пальтишком! Ты бы совесть поимел! К тебе со всей душой, а ты!
–Ты, ты... – беззлобно отговаривался Ванька. – Ты бы еще баб со всего поселка собрала! Нашла миллионера! Я, может, что и найду... – бабы навострили уши, – для тебя, если вечерком придешь! Да не забудь водичкой поплескаться перед этим.
–Тьфу, охальник! – в сердцах оттолкнула его Антонина.
–Ты погоди счас пхаться, вечером будем перепихиваться. Побереги силенки!
– Да пошел ты!.. – Антонина отвернулась к бабам. – Девки, пошли к клубу, там музыка играет, а здеся чтой-то скучно стало. А вона дачники пожаловали на водопой, поздние пташки! Поди все разъехались, а эти...
Пока бабы обсуждали появление Антона с братом, которые, не торопясь, подходили к колонке, Люба, не зная отчего, вдруг почувствовала, как сильно забилось сердце и горячая волна прокатилась по всему ее телу. Она поднялась со скамейки и, подхватив ведро, сказала деловым тоном, скрывая свое смущение:
– Пойду, воды наберу, не то ребята надолго займут. Антонина фыркнула: – Не этих ли ты вчера утром кадрила? ─ и многозначительно добавила: – М-да, Любовь! Каких пташек словила! Куды тебе этот!
Она презрительно покосилась на стоявшего рядом Ваньку.
– Ох, и язва ты, Тонь! Все тебе ущипнуть, да побольнее, – ответила Люба.
– Э-э, – понимающе хмыкнула Антонина, – говори больше! И с какой стати они тебя поить стали бы?
– А с такой, – по делу! Комнату Антон у меня снимать будет.
– Анто-о-он, – протянула Антонина, – тезка значит. Это какой, вон тот, симпатичный? Ну, желаю успеха!
Люба, не сказав ничего, отвернулась и пошла к колонке. Она сейчас была даже благодарна Антонине, что та привела ее в чувство. Ей не хотелось встречаться с Антоном в таком настроении, боясь выглядеть перед ним смешной и растерянной. Да и вид ее не соответствовал моменту. Люба чувствовала почти что девичью робость оттого, что не причесана и не одета. Она злилась на нечаянную встречу, на себя за непонятное смущение. Но, как ни странно, когда подошли братья, Люба вдруг успокоилась, и к ней вернулся обычный скепсис.
– Привет, мальчики! С праздником вас!
– С праздником тебя, Любочка!
– Вы что, уже ко мне?
– Да пока нет, – ответил Антон. – Где-нибудь вечером придем. Сейчас дел полно, едва управляемся.
– Антон, а ты сходи сейчас, пока я буду набирать воду. А вечером покапитальнее заглянем, – выразительно подмигнул ему Славка.
– О, дельно! Давай ведро, – и, подхватив его из рук Любы, сам себе скомандовал: – В честь праздника, церемониальным, – шагом арш! – и засмеялся. – Там сейчас парад, а мы ведра таскаем.
– Каждому свое, – отозвалась Люба, но тут же отскочила в сторону. – Эй-эй, маршировать можно, да только не обливаться!
– Ну вот, а мы, помнится, говорили, что покладистые! Подумаешь, пролил каплю – и несколько молекул попало на божественные ножки нашей прекрасной хозяйки.
– Да-да! Потом из-за этих молекул схватишь воспаление легких, а лечить меня некому.
– Господи, да ведь я самый лучший лекарь на всем белом свете, и лекарство у меня самое вкусное. Такой бальзам, что любую хворь вышибет!
– Как раз, от вас дождешься! – Люба непроизвольно вздохнула. – Куда вы потом только деваетесь со своим лекарством?
– За других не могу ручаться, а мое слово точняк!
– Хм! Посмотрим. Ну, вот и пришли. Подожди, я Дружка упрячу. Он хоть и маленький, а тяпнуть может, будь здоров как! – Вот это я не люблю, хотя обожаю всю живность – и лошадей, и коров, и собак с кошками, и женщин... – он запнулся, поймав на себе укоризненный взгляд Любы. – А что, пусть мне все мясо с костей оборвут, если это не так! Женщина – такая же живность, только более хлопотная. Собаку можно посадить на цепь, но уж женщину!..
– Что это у тебя разговоры какие-то антиперестроечные? У нас женщин освобождают, права дают, а вы все норовите посадить нас на цепь.
– Ну, во-первых, – какая цепь вас удержит, а во-вторых, – кто это «вы»?
– Да все вы, мужики!
– А-а, понятно! Я, конечно, не против женской свободы, если у нас в государстве рабочей силы не хватает. А в остальном женщина после двадцати пяти, особенно после рождения ребенка, – сопли-вопли, макияж и шмотки-колготки, как основное занятие их на работе в перерывах между больничным по уходу за ребёнком, – уже ни на что, как работник, не годна! И вообще, по моим наблюдениям, на тысячу мужчин приходится всего одна женщина, равная ему по своим деловым, как профессионал, качествам! Хотя зарплату они получают одинаковую, а то и выше. Вот так!
Глава 5
Пока Антон рассуждал на темы женской эмансипации, Люба, с недоумением слушая его, не понимала, зачем он все это говорит. Ей самой давно было все равно, что и как будет происходить со всеми остальными женщинами, живущими на свете. По крайней мере, те из них, что окружали ее в поселке и на работе, никогда не обсуждали таких проблем, а вот крови попортили ей немало и косточки перемыли не один десяток раз, по причинам куда более прозаическим.
Так уж сложилась у них у всех жизнь – нудная, размеренно-серая, подкрашенная мерцающей обманкой экранных небылиц про сказочные дали и благородных богатых принцев. Ее собственный Серёня ни в пору жениховства, ни потом, ничем не напоминал тех мужчин, уверенно устраняющих все на своем пути в поисках счастья и благополучия для своих подруг, на которых она насмотрелась в кино и по телевизору. Да и что ей было – шестнадцатилетней «курносихе» – выбирать, из кого?! Вот и пришлось остановить свой выбор на бойких крепких кулаках Серёни, да его исключительной способности оставаться на ногах после того, как все остальные собутыльники теряли эту возможность под конец очередного возлияния. И осталось нерастраченным подевавшееся куда-то желание «любить, ох как любить, девчонки!».
Ее унылая, однообразная жизнь, сложенная из неотличимо-похожих, как болотные кустики, скудных дней, сделали эту жажду счастья невообразимо далекой, как и ту призрачную жизнь на экране или в книгах. Нимало способствовали этому тычки пьяного Серени, желавшего наставить ее на путь истинный. Не скоро, правда, ему это удалось, но своего он добился. Некогда стало ей вспоминать свои девичьи грезы. Утонули-скатились они в чадный угар хмельного болота. А когда скончался ее Сереня от водянки, когда плотный поток хмельного зелья стал идти на убыль, ибо иссякал он в отсутствие Серени, не стала задаваться Люба вопросами о прошедших годах. Лишь иногда, когда случалось ей приехать к матери и, напившись чаю вечером, заночевать, то просыпалась она наутро на мокрой подушке. Лишь в памяти лёгкой, зеленой дымкой всплывало только одно: она, легконогая девчонка, и луг, – солнечный, бесконечный, уходящий од- ним краем в синее небо. А с другого краю – только она, и за ней ничего, кроме чувства, что там начало всех желаний, бесконечных и подаренных ей навсегда...
– Ну, проходи, – пригласила она Антона и тут же спохватилась, видя, что он хочет разуться. – Не надо, проходи так. Все равно я буду протирать полы. Да и, собственно, показывать мне особенно нечего, – пояснила Люба, проводя его в будущее обиталище через комнаты, которые занимала сама.
Она остановилась, наблюдая за Антоном, как он, обходя комнату, разглядывает занавески на окнах, отставшие кое-где обои, прислушивается к скрипу половиц. На его лице не отражалось ничего, но Люба чувствовала смутное ощущение неудобства, которое исподволь настойчиво просачивалось к сердцу. Но тут же, едва осознав это, она отбросила непонятно отчего возникшее беспокойство:
«Ведь пришел же… не нужно было бы, не пришел…».
Она, даже не отдавая себе ясного отчета в своих чувствах, не хотела обмануться в том, чего уже страстно желала. Она не могла еще бояться этого чувства, ибо сознание услужливо подсовывало ей причину, удобную и понятную в своей меркантильности. Вот тут и было еще что-то, чего она не могла распознать, сколько ни пыталась.
– Второй выход сюда? – Антон шлепнул ладонью по гранитолевой, в дырах, из которых торчала серая вата, обивке двери.
– Ну! Ее отбить надо.
– Не проблема! Все прекрасно, просто отлично!
– А дверь я забью, – показав на дверь, через которую они вошли в эту половину дома, поспешила сказать Люба. – В сенцах свет есть. Будет отдельный дом, без всяких беспокойств. Вот только мебели у меня нет, – добавила она, помедлив.
– Тхе, пустяк! – беззаботно махнул рукой Антон, – были бы кости, а мясо нарастет. Добудем и мебель. В этаких хоромах есть, где развернуться. Все равно на дачу надо завозить кучу всякого хлама, а тут будет всё в целости и сохранности. И снова Любу словно жаркой волной обдало: «Серьезно, значит, по-другому не стал бы так говорить», – и безо всякой связи сказала: – Эта половина теплая, тут печка есть. – Люба показала на угол, где внушительной грудой белела печь.
– О, это хорошо, только я зимовать еще не надумал, а посему для меня сей предмет чистая абстракция.
– Да это я так, – ответила, смутившись, Люба, как будто сказала что-то недозволенное. – Здесь мама жила... я вот потому.
– Мама? А где она сейчас? – спросил Антон, выглядывая в окно, к которому подошел, и совершенно не обращая внимания на замешательство Любы.
– Сейчас она в деревне, у своей сестры.
– Почему?
– Шумно ей было у нас. К Серёне ходили, ну и... шумели.
– А, понятно. А что сейчас не заберешь ее?
– Не могу. В поселке работы нет, а одну ее не оставишь – болеет она. За ней присмотр нужен, а какой у меня присмотр? Я в семь утра уезжаю на работу и возвращаюсь в девять вечера. Вот такие пироги.
– Н-да, – понимающе кивнул Антон. – В больницу бы ей, подлечиться бы надо.
– Что толку. Лежала она и у нас здесь, и в Егорьевске. Но везде быстро выписывают – лекарства, говорят, нужны, а так только место занимает.
– Этому горю можно помочь, – донесся до нее голос Антона из другой комнаты. – Есть кое-какие возможности. Поспрашиваю, потормошу своих человечков.
Он вышел из комнаты и сказал уже вполне серьезно:
– Ты вот что, запиши мой телефон, знаешь, вечером можно и забыть. Позвони мне через неделю-полторы. Я, видимо, уже не приеду сюда. Так что, если я достану лекарство, ты подъедешь за ним сама.
– Господи, я буду так обязана! – запричитала Люба, пока Антон черкал на клочке бумаги номер телефона. – Мама такого натерпелась, хоть какое-то облегчение…
Люба еще что-то говорила, не обращая внимания на протестующие жесты и возгласы Антона. Ее словно прорвало – и она выплескивала на него часть своих горестей, совершенно не замечая, что они подошли к двери. Антон, тщетно пытаясь ее остановить, с притворным возмущением кричал: «Ну все, все! Задолбала ты меня своими благодарностями. Ушел я, пока!». Он выскочил за дверь, и Люба, услыхав, как стукнула калитка, вдруг опомнилась: «Ну, психопатка! – досадуя, тряхнула она головой. – Чего набросилась?! Господи, ну что он подумает? Комнату у сдвинутой снимать! Ох, нехорошо как! Чертова дура!». И потом, пока она суетливо бегала, готовя и убирая в комнатах, ходила в магазин за продуктами и наглаживала свое единственное праздничное платье, мысли о случившемся конфузе своей удручающей назойливостью не давали сосредоточиться ни на чем. После трех к ней зашла Антонина, и с соседской бесцеремонностью, к тому же подогретой изрядной долей хмельного, затормошила Любу:
–Ты чего, дурында, сидишь? Везде праздник, а у тебя даже телевизор не работает! Бросай все, пошли ко мне, ─ есть-пить будем! У тебя все равно ни хрена нет!
– Нет, не могу. Насчет комнат прийти должны. Я потом зайду. – А-а-а, – ехидно пропела Антонина, – то-то ты марафет наводишь! А начепурилась, господи! Да ты что вообразила себе, мать? Ты для него ведь объедок помойный! Извини, это я так, по-дружески, – испуганно затараторила она, увидев, как потемнели глаза Любы. Та шагнула к Антонине, но сдержавшись, глухо сказала, не глядя на соседку:
– Ладно, иди к себе, а то кабы чего не вышло.
– Ты не так меня поняла, – согласно кивала Антонина, пятясь к двери. – Ты приходи, мы с Веркой тебя ждем. Я ей сказала, что ты придешь.
Антонина вышла, а Люба, сразу же забыв о ней, пыталась понять, какая сила крутит ей душу, щемя сердце тем затерянным за темной далью лет, томительным чувством счастливой тревоги. Так она прозанималась домашними делами, поглощенная своими думами, все оставшееся время, пока не пробило шесть. Люба торопливо схватила платье и стала переодеваться.
К приходу Антона она выставила на стол только тарелки с хлебом, нарезанные соленые огурцы и селедку. Остальное она собралась поставить, когда братья придут. Люба вдруг поняла, что хочет, чтобы Антон пришел не один, а с братом. Она боялась остаться с ним наедине. «Господи, что же это? Совсем я спятила, совсем... Влюбилась, что ли?». С трудом она осознала это слово, но когда его смысл четко и ясно отпечатался в сознании, Люба испугалась. «Нет, нет! Этого мне не хватало! Ох, дура шалая! Конец света!».
Люба вытащила сигарету и, закурив, сделала несколько глубоких затяжек. Она вдыхала дым торопливо и жадно, как будто без этого она неминуемо умрет от непомерного волнения. «Господи, трижды дура!». Люба с причитаниями вдруг сорвалась с места и, бросившись к двери, открыла ее настежь, а затем подбежала к окну и торопливо, путаясь в щеколдах, распахнула створки. «Антону это не понравится. Он не курит, а у меня как в кочегарке!». Но тут же осеклась, застыв у окна.
Густо засиневшее небо, сгущая сумерки, гасило ее надежду, и эта надежда, вместе с сизыми космами сигаретного дыма, уносившихся через окно, исчезала безжалостно и неотвратимо. «Объедок...». Люба вспомнила это слово и повторила: «Объедок! Пусть. Он не смог придти. Хм! Объедок помойный!». Слова появлялись, как пузыри, притворяясь такими же пузырями, как и настоящие, болотные. Но те только смердели тяжелым духом, а от этих каждый раз в ее душе исчезала живая частичка, и на их месте Люба ощущала большие пустые дыры.
Она убрала со стола, потом достала бутылку водки и налила стакан, почти до краев, и медленно, не переводя дыхания, выпила. Люба хотела откусить от огурца, но потом передумала. Потихоньку, осторожно, боясь качнуться, она подошла к двери, выключила свет и вышла. Дверь закрывать не стала, у нее не было сил на эту суету. Наутро, собираясь на работу, Люба ничего не помнила и, пожалуй, спроси ее в тот момент что-нибудь о вчерашнем дне, она в ответ смогла бы только отмахнуться головой, и то лишь едва, боясь повредить ей этим мучительно-трудным движением.
Глава 6
После ноябрьских праздников дни полетели быстро. Прошло с полмесяца, как выпал первый снег, и все вошло в привычную, не одним годом накатанную колею. Работа, поездки к матери, телевизор и непременные два – три вечера в неделю, орошенные крепчайшим самогоном, принесенным добровольными жертвователями в лице Верки, Антонины с их «хахалями», не оставляли Любу надолго наедине.
Одиночества она не боялась, привыкнув к нему так, как привыкают к тиканью часов или гомону репродуктора. Но все равно, той жизни, к которой она всеми силами стремилась вернуться, уже не существовало. Любе порой казалось, что живет она в какой-то клетке, за прутьями которой ее поджидал коварный и неведомый зверь.
Она знала его силу – эгоистическую, подчинившую себе все ее существо, и боялась только этого. Каким-то неведомым образом ей до сих пор удавалось оградить себя от его покушения, сделав свою жизнь до чрезвычайности похожей на игровой автомат, какой видела однажды в кинотеатре. Скачут на экране лошадки, стоя на месте, а под ними бежит дорога, услужливо подбрасывая под копыта кочки да камни. Самая удачливая сдвинется чуть-чуть, а остальные мордой об дорогу по нескольку раз – вот и все счастье! Что и говорить, жалко ей было отставших лошадок. Напоминали они ей до жути ее жизнь – столько усилий, а время мимо тебя, да норовит побольнее зацепить за каким-нибудь поворотом.
Люба шестым чувством сторонилась любых размышлений о своей доле. В конце концов, не одна она такая. Жить нужно так, как получается, и не думать ни о матери, ни об Антоне, ни о чем. Это было бы легко, но матери становилось все хуже, и Люба, каждый раз приезжая к ней, испытывала муки совести и одновременно страх.
Она боялась увидеть Антона, услышать его голос. Тогда может произойти все, что угодно, самое непредсказуемое и гибельное, отчего она пока могла отгородить себя. Она оттягивала неотвратимость поездки в Москву и, где только могла, доставала лекарства, переводя на них треть, а то и половину своей зарплаты. Но их было мало и, к тому же, не совсем те, что нужны.
Приходя домой, она, включая свет, непроизвольно отдергивала пальцы. Под выключателем крупно и жирно чернел телефонный номер Антона. Люба переписала его сразу же на самое видное место, и теперь он, как паук, поджидал ее каждый раз, когда она протягивала к выключателю руку. Было в нем и еще что-то, не только паучье.
Это что-то, как светящийся глаз, смотрело на нее из темноты, когда она засыпала. Иногда ей казалось, что эти цифры живые и с ними можно разговаривать. Видимо, так и случалось в иные вечера, потому что наутро, просыпаясь с трещавшей головой и обложной сухостью во рту, Люба была в полной уверенности, что вчера вечером она разговаривала с Антоном: он приезжал по какому-то случаю, привозил лекарства и потом допоздна засиделся у нее за бутылкой портвейна... Бутылки она, конечно, находила, засунутые между диваном и стеной, и, отходя от тяжкого похмелья, постепенно с раздражением припоминала свои пьяные грезы.
И все-таки настала пора поступиться и страхом за свой покой, и боязнью показаться перед Антоном заморенной и неприглядной, – не до этих стало тонкостей. Круто повернула судьба – совсем худо стало матери.
На поселковую почту, где был междугородний телефон, она шла, как сомнамбула, безо всяких чувств и мыслей, хотя до этого ее буквально лихорадило. Перед этим она несколько раз подходила к холодильнику, где стояла банка с самогоном, но всякий раз ее удерживала мысль о матери. Люба знала совершенно определенно, что любая капля самогона сделает свое дело – и на почту она не попадет. Только скорбное измученное лицо матери, встававшее перед нею, словно током перетряхивая ее всю, возвращало к действительности. Люба не понимала, что с ней происходит, хотя отдавала себе отчет в том, что все это ненормально.
Об Антоне она думала постоянно. Ее фантастические мечты вытягивали всю душу, выжимая до бессильной пустоты. Боязнь этой пустоты, постоянные, изматывающие мысли об Антоне и о матери, несовместность долга с бесконечной борьбой против зверя, изглодавшего ее мозг и нервы, сделали с нею то, чего не смог сделать незабвенной памяти ее Серёня. Зачем ей Антон? Все это глупости, годные лишь для той поры детства, когда ни о чем другом невозможно думать. Из всего получался невообразимый клубок переживаний. Он давил изнутри, грозя разорвать своими противоречивыми ощущениями ее устоявшийся мир, не оставив ничего взамен. Инстинкт самосохранения, пугая ее безвыходностью, приоткрывал завесу над той роковой чертой, о которой Люба могла только с содроганием догадываться. Для нее была в диковину такая бездна чувств, открывшихся в ней внезапно, и это ее особенно страшило...
На почте заказы на переговоры, почтовые отправления и другие виды услуг, предоставляемые достопочтенным ведомством, и, увы, сохранившим лишь тень своего былого могущества, оформляла баба Галя. С тех времен, когда эпистолярий почитался всем грамотным людом, а посему был необходим как воздух, как вода, когда почтовый служащий заслуженно грелся в ярких лучах всеобщего почитания, эта, некогда великая и могущественная империя, распавшаяся на хиревшие бескровные ручейки и струйки, осела во многих местах каплями ветхой старины. Одной из таких светло-родниковых капелек была баба Галя из длинного и славного рода почтарей.
– Как Пелагея, Любань? – Баба Галя глянула на Любу поверх очков тем особенным взглядом, какой бывает только у людей, прошедших свое поле жизни дорогой, проложенной на виду у всех, да еще у темноликих мадонн, какие видела Люба в далеком детстве на старых иконах. Жизнь ее, вся, до единого часа, прошла в поселке, и потому баба Галя была поверенной многих тайн его обитателей, что само по себе делает человека осмотрительно мудрым, если он сам не был характером таков от рождения...
– Да так. Разболелась она на неделе сильно. Я уж не знаю, что и делать. Люба устало стянула с головы платок. Она не удивилась такому обращению к ней старой хранительницы поселковых хроник. Та всех, кого знала в поселке, а знала она всех, звала только по именам, не обращая внимания, кто перед ней – мать с дочерью, дед с внуками или кто другой. Но непостижимым образом ее голос был всегда различаем каждым, как обращающийся только к нему, и каждый слышал в ее голосе одному ему понятную, интимную интонацию. Знала она, как нужно разговаривать со всеми, не делая различия между последним забулдыгой и признанным авторитетом. Справедливо полагая, что рядом живут души людские, а обидеть душу – что веточку сломать – не примется потом.
Много прожила баба Галя на свете, но не растеряла той природной чувствительности души, которая, как и талант, стала столь редка в наши суетные дни. Поэтому с охотой долгими, застольными разговорами занимали ее хозяева, если случалось бабе Гале, заменяя кого-нибудь, принести пенсию или телеграмму, а то и по какой другой надобности переступать порог их дома.
– Намедни-то я зашла к Потыкиным, в Каменской-то которые, дед ихний рассказал мне про Пелагею, что хуже ей стало.
– Обострение у нее, баб Галь.
– Да-да, года наши-то какие, и потом... Ты-то мать не забывай. Ей одна радость осталась в жизни. Не стой там, проходи сюда, чайком побалуемся, он как раз поспел. Тебе чего – телеграмму отбить, али чего другое? – как бы невзначай справилась старушка, одновременно управляясь с чашками, разливая в них из заварочника душистый травяной настой. – Если торопишься, то куда уж к вечеру? Одна чашка не помешает, а потом скоренько управимся.
– Чего другое, баб Галь, – усмехнулась Люба. – Мне в Москву позвонить надо... По делу, – добавила она погодя, зная, что баба Галя непременно вмешается, если только услышит неделовой, по ее мнению, разговор, и уж откомментирует по-своему, а то и оборвет его. Тогда никакие уговоры не помогут – скалой стоит на своем баба Галя: «Линия занята». Ей можно после грозить любыми карами земными и небесными, но она остается непреклонной: «Линия занята» – и точка. Под конец, всласть наругавшимся клиентам она все же заметит с укором:
«И-и, детонька! Вот ты о своих тряпках, а в это время человек, может, помирает – а оповестить скорую нельзя – линия тобой перегружена. Вот возьми лучше листок бумаги, да напиши письмо другу али подружке. Куда как приятнее им будет письмо получить, не то, что трезвон без пользы!». Не хватало после уже духу ни у кого распаляться дальше, и уходили по-разному, но больше тихо и пристыжено.
Заказав разговор с Москвой, они неторопливо пили чай и пытались беседовать. Это плохо получалась у Любы: она больше молчала, отвечая редко, а то и вовсе кивками. Старушка замечала все это, но не смущалась. Она была по-своему начитана, как-никак служба на почте помогала ей быть в курсе всех новостей любого сорта и разновидностей. Баба Галя искусно пользовалась ими, умело поддерживая любой разговор. Она могла сказать нужное и почувствовать настроение от сказанного ранее. При этом она не выливала потоком болтовни к месту и не к месту свою обширную информацию, как это частенько делают словоохотливые старушки. Словом, баба Галя была в этом смысле светской женщиной...
Глава 7
– Ты, Любаня, не убивайся. Этим не поможешь Пелагее. – К тому времени она уже знала, что привело Любу на почту. – Все эти лекарства, конечно, облегчают тело от болезни, но душу, детонька, никакими лекарствами не облегчишь. Я не говорю, что ты Пелагею должна забрать к себе, это тоже не дело. На ее пенсию не проживешь, потому что уход ей постоянный нужен, а вот вечерком заглянуть к ней с работы – по пути ведь – надо. Посидела рядом, попоила, покормила али что, и не надобно ей боле ничего. А день свободный – так и то совсем можно побыть. Марья, оно, конечно, следит за ней, а все ж ты ближе.
– Я часто бываю у нее, почти каждый день...
Люба отвечала односложно, по-прежнему сосредоточенно занимаясь процессом чаепития, как нечто исключительно важным в данный момент. Баба Галя осторожно усмехнулась, как человек, догадывающийся о тайне другого, но, не обнаруживая при этом своих догадок. Однако, помолчав, сказала:
– Конечно, оно с матерью все так, а одной, Любань, жизнь тяжело мыкать, по себе знаю. Ты молодая, красивая еще. Смотрю я на тебя – нашла бы себе человека. Али любовь уже встретила? Люба ответила не сразу, только чашка дрогнула в руке, и она поспешила ее поставить, чтобы не расплескать остатки чая.
– Какая уж там любовь?! Вся-то она в моем имечке – на всю жизнь, один звук пустой.
– Ах, детонька! Зябко в мире без любви, и каждая баба любовью живет. Иначе мир, весь как есть, к богу перейдет. Уж если не бабам, то кому ж хранить и жалеть мир-то наш? Мы с тобой, как два сапога-пара, – обе одинокие. Мой-то, как пропал на войне, так и осталась одна. Горевала-то я, горевала, а пришла в себя – время-то мое убежало-ушло, не дождавшись, пока выплачусь. Может оно и к лучшему. Что мир грехом полнить, уйду отселева с чистой совестью. Не случилось встретить человека, нечего и память Петра моего срамить. Любовь надо на любовь разменивать и в душе носить – как дите под сердцем – осторожно.
Старушка давно отставила остывшую чашку чая, перебирая узловатыми непослушными пальцами чайную ложечку. Хотя Люба никак не могла найти в ее словах ничего радостного, она слышала в ее голосе ясные светлые нотки. Те, словно воплощаясь в материальный образ, казалось, застревали в уголках глаз и в морщинках век собеседницы Любы, отчего лицо ее будто лучилось тихим спокойным светом.
– Вот ты-то страхом полна, а ить, детонька, хорошо это, хорошо. Без любви женщины – как травы сорные – всяк норовит растоптать, вырвать с корешками и выбросить прочь, подальше. А коли в тебе чувство есть, то ты крепче камня, и сама как маков цвет. – Тут баба Галя с ласковым прищуром дотронулась до руки Любы. – А что боишься, то не страшно. Ведь не себя, не любви ты боишься, а того, что не взаправду она, и остаться без нее не хочешь.
Звонок ударил резко и неожиданно:
– Тьфу, окаянный, греха на тебя нет! – встрепенулась баба Галя, – вона девку как перепугал и меня вприпек с ней!
Она, не обращая внимания на Любу, которая будто обмерла от раздавшегося пронзительного трезвона, поспешила с вытянутой рукой к звонящему телефону и, сняв этой же рукой трубку, другой знаками показывая Любе на кабину, отозвалась:
– Але, слушаю вас… да, заказ наш, девонька… туточки, – и, прикрыв трубку ладонью, уже сердито заторопила Любу: – Иди скорей, туда в будочку, твой номер дали, ну, скоренько!
Люба, почему-то на ходу одергивая юбку, подбежала к кабине. Глубоко вздохнув, чтобы успокоить расходившееся сердце, она судорожно распахнула дверь кабины и вошла, как нырнула, в тесный полумрак. Дождавшись ответа на другом конце, Люба чужим, срывающимся голосом прошептала:
– Здравствуйте, поз...овите , пожалуйста, Антона, – и, судорожно сжав трубку мгновенно вспотевшей ладонью, добавила: – Это Люба, Люба я...
– Кто?
– Вы не помните меня? Ну, я Люба, вы еще сказали позвонить насчет лекарства.
– Да? Каких еще лекарств? Вы не туда попали!
– Ой, извините, мне Антона надо.
– Я вас слушаю, но, простите, это не аптека, а квартирный телефон.
– Я знаю, знаю. – Люба никак не могла узнать голос Антона – и это совершенно сбивало ее с толку. И всё же она, собравшись, сказала громко:
– Вы на даче, осенью, дали мне свой номер телефона, чтобы я позвонила вам насчет лекарства. Вы хотели еще комнаты у меня снимать в поселке, – уже с отчаянием договорила она, – вот я вам и звоню.
– Ах ты, господи, Люба, торфболотовская фея, ты что ли?
– Ну да, я. Я это, извините, если беспокою. Я не хотела отрывать вас от дела… и вот позвонила. Маме худо, – уже тише проговорила она. Люба чувствовала, что ее оставляют силы и, чтобы окончательно не потеряться от сковавшего ее чудовищного напряжения, сказала, отдав на это их последний остаток:
– Я позвоню вам, только скажите, когда? Извините, что побеспокоила.
– Ну вот, что еще за глупость! Я не был сейчас занят ничем, и притом мама ваша больна, – к чему эти церемонии?! Летом, мне помнится, – смешком уточнил Антон, – мы были на «ты».
Назидательность и спокойная уверенность в голосе Антона отрезвили Любу. Она закрыла глаза и, увидев плавающие в пульсирующей темноте зеленые круги, вздохнула несколько раз.
– Алло, ну что ты молчишь? Люба, ты слышишь?
– Нет, я не молчу, я слышу.
– Вот это номер! – засмеялся Антон. – Ты затем и звонишь, чтобы повторять мои слова? Давай-ка по делу.
– Да-да, конечно, по делу. Я про лекарства, ну те, помните, …нишь, – она, запнувшись, испуганно поспешила исправиться, – которые список написала.
– Какой список? Ах, ну да, список, с ним все в порядке.
– Значит можно приехать? – обрадовалась она. – А когда?
– Да хоть завтра. Как приедешь, позвони. Пересечемся где-нибудь – и будет полный порядок. Ну, пока, а то телефон монетки нащелкивает будь здоров как!
– Спасибо, Антон, я завтра утром приеду.
Положив трубку, она в изнеможении прислонилась к стенке. В голове тупой скороговоркой отстукивал пульс, но сквозь этот частокол неумолчных ударов опять пробилась мысль о том, что с ней происходит нечто ненормальное. Что-то внутри развинтилось и, вырвавшиеся на свободу непонятные ощущения, какая-то смесь страха, нервной дрожи и томления превращают ее жизнь в мучительную пытку.
Вот и сейчас, после разговора с Антоном, ей казалось, что разговаривала она не с ним, а с тем, неподвластным ее воле, зверем, жаждущим ее погубить. Но самым страшным было то, что она понимала и неотвратимость этого и бессилие, ничтожность ее противостояния надвинувшейся сладостной беде. Беда манила ее в бездну. Она представала перед ней болотным омутом, о котором знаешь, что он здесь, где-то рядом. Только схваченный им, узнаешь истинное коварство внезапно выпрыгнувшей на тебя черной ямы, посланца леденящего небытия.
Наутро она встала без четверти шесть и наскоро собралась. Все было приготовлено с вечера, когда она вернулась с почты, и теперь ей оставалось только снять бигуди, расчесать волосы и подвести глаза. Времени ушло на это немного, но Люба никак не могла сбросить с себя наваждение предутреннего сна. Он оставил неприятный осадок и больше походил на дурную примету, чем на обычный сон. «Да это просто чепуха, – с раздражением отгоняла она от себя тревожные мысли. – Ведь все хорошо и все уладится. Он достал лекарство, чего же еще!».
Но это что-то «еще» висело камнем на душе, возвращая на память одну и ту же картину сновидения: «Антон и она. Антон ласково влечет ее к себе – и Люба с ужасом вдруг видит, как его сильные и нежные руки превращаются в липкую паутину и его добрые глаза стекленеют и мертвеют, завораживая ее безумным взглядом нелюдя...». В электричке она бездумно глядела в окно и, машинально отмечая про себя перестук колес, отсчитывала их ритм, как стук своего сердца. На остановках, когда он пропадал, ей даже казалось, что она задыхается, и мысленно подгоняла электричку, боясь, что еще немного, и она потеряет сознание от удушающе-длинной остановки. Подъезжая к Москве, Люба за две остановки встала в тамбуре у самой двери, не замечая, как входящие и выходящие люди сердито делали ей замечания, а то и просто бесцеремонно отпихивали в сторону. Но она снова настойчиво проталкивалась к самой двери, несмотря ни на что. На вокзале Люба бросилась из вагона и, расталкивая встречных, устремилась к телефонным будкам. От волнения, долго не попадая монетой в прорезь аппарата, она, наконец, набрала номер Антона.
Люба не знала, сколько она так простояла, слушая длинные, пустые гудки, и едва ли не подсознанием почувствовала посторонний звук, настойчиво перебивающий мерные сигналы. В стекло барабанили монетой: «Девушка, звоните или освободите телефон! – Люба машинально повесила трубку и вышла на скользкий от мокрого снега перрон: «Опоздала. Ушел... Надо ждать...».
Глава 8
Весь день, который она провела на ногах, даже не испытывая желания присесть, Люба, с регулярностью автомата, звонила каждый час Антону, и каждый раз она неизменно натыкалась на редкий частокол гудков. Она дважды сверялась с записью номера телефона, но выходило все правильно. Поздно вечером Люба, не чувствуя ни голода, ни усталости на прямых негнущихся ногах, приехала на Казанский вокзал.
Место отыскалось быстро, и Люба, согнувшись пополам, медленно опустилась на кресло. Она не могла уже ничего ощущать, но в голове ясно слышалась звенящая пустота, а по всему телу разлилась свинцовая тяжесть. Любе казалось, что она превратилась в пустую жестяную банку. Слова и шум вокзальной сутолоки доходили до нее как сквозь гулкий и звонкий коридор, в самом дальнем и темном углу которого была она сама, а на другом ─ далеком конце коридора – был свет, звуки, жизнь. Она не обратила внимания, как рядом по обеим сторонам опустились две фигуры, и мужской голос спросил:
– Не занято?
Люба подняла полову и взглянула на спрашивающего. Из-год глубоко надвинутой на лоб кепки на нее смотрели неопределенно-темного цвета глаза, к которым вплотную подступала давно не бритая, густая щетина.
– Что?
– Не занято, спрашиваю? Люба отрицательно покачала головой и закрыла глаза.
– А что, если дамочка передвинется на мое место, а я сяду на ее? Нам с дружком было бы удобнее. Люба снова открыла глаза и молча поднялась.
– Да куда вы, сидите. У нас тут с приятелем... ну, сами понимаете! Сидите, больше не побеспокоим, ни-ни!
Люба, запахнув полы пальто, села на место мужчины и вытянула ноги. Она услышала, как те зашуршали бумагой и тонко звякнуло горлышко бутылки. Этот звук ей что-то напомнил. С трудом собирая мысли, Люба подумала: «Что еще, господи?». А в ушах, отозвавшись на этот звук, разрастаясь тревожным набатом, вперемежку лезли разноголосые длинные гудки телефонов-автоматов. Ей казалось, что она слышит их неумолимый звон сразу, и он, сливаясь в единый гром, то накатывался штормовым валом, то спадал, оставляя вместо себя осязаемо-рвущую головную боль. «Надо звонить…».
Люба осмотрелась и прямо перед собой увидела на стене ряд телефонов-автоматов. Потерев пальцами виски, она порылась в кошельке и достала монеты. Телефонную трубку сняли сразу же, и женский голос протянул:
– Алле-е?
Люба сглотнула и сказала так, как будто знала и про женский голос, и про звуки музыки, и все то веселье, что пробилось к ее усталому сознанию.
– Антона можно?
– О, конечно, он у нас сегодня нарасхват! Анто-о-он, тебя к телефону, – томно проворковал голос, и Люба услышала стук трубки, брошенной на твердую поверхность. Этот стук отдался в её ушах стократ усиленным эхом, как будто ее голову сняли и бросили вместо трубки ─ небрежно и безразлично...
– Да, слушаю?
– Антон, я приехала. Люба, из Егорьевска.
– Что? Люба? Счас, сей секунд выясним! – и она услышала пьяно-ломаювщийся голос Антона:
– Мужики! Мужи-и-ки, стоп! А ну, признавайсь, кто даму в телефонной будке забыл?
Люба слышала гвалт разогретых спиртным голосов, смех, выкрики. И затем хохочущий Антон, галантно стараясь сохранить трезвые интонации, игриво ответил:
– Мадмуазель, говорят, наши все дома... Ну, сейчас, сейчас! – кому-то заорал Антон, не отстраняясь от трубки. – Имейте, мужики, терпение, может это моя судьба! Ал-ле, вы слушаете? Простите, а как вас зовут? Люба медленно вернула трубку на место. Она постояла, прислонившись к стене, несколько мгновений не решаясь отойти от нее. Люба ощутила вдруг всю себя сразу, как будто на нее в единый миг опустилась вся многочасовая усталость. Тело заныло, заломило затылок, ее сотрясал озноб, растекавшийся по телу холодным липким потом. Потом наступил провал, и следующее, что она почувствовала, было чьими-то руками, и чей-то голос участливо успокаивал:
– Ну-ну-ну, будет. Ай, как нам худо! Что же это так, девушка! Спокойнее, присядем... Вот так... Гражданка, вам говорят – все в порядке!.. Какая пьяная?.. Мы да, а она ни-ни... Да иди, мамаша, топай отсюда, тебе говорят!
Люба слышала перебранку, но у нее не было сил ни открыть глаза, ни встать, чтобы уйти, и она продолжала сидеть, привалившись к спинке кресла, пока не почувствовала, что ее опять тормошат за плечо:
– На-ка, попей водички, давай...
Люба открыла глаза. Маленького роста круглолицый парень, участливо поглядывая на нее, что-то доставал из сумки. Другой протягивал ей пластмассовый стаканчик. Люба взяла его и пригубила. Там оказалась фанта, но ей было все равно – пить не хотелось, страшно хотелось спать... Но, тем не менее, Люба чувствовала какое-то физическое облегчение, точно неимоверная тяжесть свалилась с нее и она оказалась в самом обыкновенном мире, где существуют вокзалы, люди, свет, шум и боль в сердце. Едва она пошевелилась, как тут же ощутила острый укол, сбивший ей дыхание.
–Ты сиди, сиди, не двигайся! Отдохни малость, – сказал заросший, все еще держа в руке стаканчик, из которого понемногу отхлебывал. – Видишь, как сра- зу побледнела. Ты вот что, давай-ка, тресни малость, легшее станет, я те точно говорю. По тому, как убежденно и серьезно он это сказал, Люба поняла – «треснуть» надо. Маленький, суетясь в ответ на приказание заросшего: – «Ща, бу сделано!», – вмиг, с ловкостью фокусника, достал из-под пиджака уже наполненный стакан. Люба неверным движением взялась двумя пальцами за белую пластмассу стаканчика и, не выясняя, что там налито, медленно, не торопясь, потому что боялась запрокинуть голову, выпила все до дна. Затем она бессильно уронила руку, из которой выскользнул стаканчик и белым мячиком запрыгал по мраморному полу. Под одобрительные возгласы парней Люба чувствовала, как теплая горечь водки разливается внутри, и ей стало хорошо. Заросший, заметив это, потер руки и предложил:
– Возьми бутербродик, да примем по второй. Не откажешься с нами? – и, не дожидаясь ответа, удовлетворенно гмыкнул: – Вот и славно.
Любе впихнули в руку еще один полный стакан водки. Потом она чувствовала, как дрожащие цепкие пальцы заросшего настойчиво подталкивают ее под локоть, и голос, странным контрастом с действием его пальцев, ласково увещевал:
– Нам все полезно, что в нас полезло...
Потом она была словно в полубреду. Ей предлагали пить, она пила, не испытывая потребности ни в каких объяснениях. Она только помнила, что пили водку, ее спрашивали – она отвечала. Позже, эти двое повели ее куда-то, повторяя:
«Чего на вокзале сидеть, – там и выпьем». Она не противилась, и сколько шли – не помнила.
Потом вошли в полутемный подъезд, где Люба не могла ничего различить, кроме двух маячивших перед глазами безликих теней. Высокая тень ушла куда-то наверх, а маленькая, прилепившись к перилам, застыла в ожидании. У Любы сильно кружилась голова, ей захотелось сесть – и она опустилась на ступени лестницы.
Сидела она недолго. Сверху спустился заросший и между ним и маленьким завязался быстрый шепоток. На Любу постепенно опустилось блаженно-сонное состояние, из которого ее неприятно грубо выдернули слова длинного: «Пошли, пошли…». Она покорно поднялась и пошла вслед за длинным, чувствуя его застарело-кислый запах давно не стираной одежды.
Поднимались недолго, и на большой лестничной площадке, так же тускло освещенной и грязной, остановились. Маленький, шедший сзади, подтолкнул ее к окну. Длинный уже стоял около темного провала, черневшего рядом с окном, и снова сказал шепотом: «Давай быстрей». Он чиркнул спичкой, осветив двухметровый закуток за лифтовой шахтой, и шагнул вперед. Когда спичка потухла и длинный зашуршал коробком, маленький коротким смешком остановил его:
«Что, боишься промахнуться? Не бойсь, не пронесешь». Они снова пили.
Дальше Люба только подсознанием помнила, как ее раздевали, как нагнули лицом вниз и, заломив руки за спину, поставили на колени. Она дышала удушающей вонью мочи на сыром полу, пока по ней сзади елозили по очереди то один, то другой, и потом ее вырвало. Это привело их в озлобление. Опрокинув на бок, они били Любу ногами по животу и бедрам, приговаривая: «Вот сука! Пои такую стерву! Все облевала!..». Особенно ярился маленький. Длинный, матерясь, с трудом оттащил его. По тому, что ее перестали бить, Люба поняла, что они ушли. Она еще долго лежала на мокром, вонючем бетоне, пока не смогла встать, кое-как оделась и вышла.
Остаток ночи Люба провела в тоннеле, ведущем к пригородным поездам. Её постоянно тошнило от запаха, исходившего от рук и волос. Кое-как она вытерла лицо мокрым снегом, но на большее не хватило сил. В электричке, несмотря на пустой вагон, Люба не смогла войти в салон, а осталась стоять в тамбуре, но потом обессилено опустилась на корточки и забылась в горячечном полусне. Всю дорогу ее сопровождал визгливый голос Тоньки, разухабисто выкрикивающей под перестук колес на манер веселенького мотивчика: «Объе–док по-мо-йный... об-е-док по-мо-йный…».
В Егорьевске она зашла в свое кафе и, не отвечая на вопросы встречавшихся подруг, заперлась в туалете. Люба долго мыла голову из-под крана едва теплой водой. Раздевшись, обмылась по пояс и прямо на мокрое тело надела одежду. Игнорируя стуки в дверь, которые Верка перемежала с вопросами, тщательно, как только смогла, привела пальто в порядок. Надев его, Люба распахнула дверь туалета и пошла к черному выходу. Верка, пытавшаяся задержать ее, недоуменно кричала вслед: «Спятила, дура! Куда ты с мокрой головой?!».
Войдя в дом, Люба стащила с себя все, что на ней было. Достав из шкафа белье и летнее платье, она переоделась и затопила течь. Пока в печи набирался жар, Люба накормила собаку, налила коту в блюдечко молока и отнесла в сени. Вернувшись в комнату, она закрыла дверь на ключ и задернула плотнее шторы на окне. Ещё какой-то слабый импульс заставлял сделать эти последние усилия. Люба зажгла свет и, найдя бумагу и карандаш, написала: «Господи, Антон, нет греха на твоей душе! Я одна во всем виновата». Отложив карандаш, Люба посмотрела через приоткрытую дверцу в печь. Прогоравшие дрова веселыми синими огоньками завораживали ее бесконечно-усталые глаза.
Люба встала, пошатнулась и, подняв руку, задвинула вьюшку. Больше ей в этом мире делать нечего, и только тело, просившее, молившее о покое само, без участия сознания, бессильно опустилось на койку. Сомлев от тяжелого синего жара, оно с каждым мгновением освобождалось от забот и страданий. И в тот момент, когда давно уснувшее сознание вдруг пробудилось в своем последнем толчке жизни, это измученное, исстрадавшееся тело перестало быть живым. И так легко это случилось, что ни единым шорохом, ни малейшим веянием не ответила мудрая природа на отлетевший, не самый любимый свой листок с дерева жизни…
Глава 9
Открыв глаза, Антон увидел приближающегося Славку. Лениво пошевелив взбухшими от мозолей ладонями, Антон привстал и заглянул в теткину посудину: «Ну и прорва», – незлобиво подумал он, целиком отдаваясь приятной истоме.
– Ну, ты что, как в обмороке? – проговорил подошедший Славка.
– Разморило, сил нет, – не открывая глаз неопределенно махнул рукой Антон.
– Иди вон к Ваньке под лавку, там тенек, на пару прохрапите колыбельную друг другу.
Антон промолчал. Славка уселся рядом, и братья вновь погрузились в дремотное состояние. Между тем, проснувшийся Ванька мутно-осоловелым взглядом угадывал сидевшие у колонки фигуры.
– Эй, мужики! – прохрипел он сиплым от сонного оцепенения голосом. – Закурить не найдется?
Антон недовольно пробурчал:
– Ну, все! Сейчас прицепится! Слушай, Слав, сделай доброе дело. Я схожу в магазин, а ты посиди здесь, пострадай малость, как я в прошлый раз.
– Еще чего! Я за тебя ворочать не собираюсь! А вообще, вот что. Пока бабки нет, давай отставим ее фиговину, нальем свои бидоны – и с богом отсюда.
– Ну, ты голова! – обрадовано сказал Антон, – вовремя ты это удумал!
–Разом сбросив сонную одурь, они взялись за этот гибрид бочки с небольшой цистерной и, откатив ее, поставили свой бидон. Ванька тем временем, не без труда выправив изрядный крен своего тела, принял сидячее положение и, позевывая, зачесался под майкой. Потом он, видимо вспомнив про курево, снова с каким‑то петушиным клекотом просипел:
– Але, мужики, покурить дайте?
– Не, Вань, не дадим, мы не курим. С добрым утром тебя, родной! Ты, никак, постельку свою перепутал? – с ласковой ехидцей спросил Славка, подходя к скамейке.
– А, это вы, – широко и прерывисто зевнул Ванька. – Чтой-то мы вас недавно вспоминали? Точно, в январе на поминках.
– Хорошенькое дело! Чтоб тебя так почаще вспоминали!
– Не, точняк! Там... эта... Любка отравилась – так мы ее поминали… как звали, – Ванька ухмыльнулся.
– Да ты что? Любка, фея ваша торфболотовская? И чего она так?
– А черт ее знает! Отравилась и все. Давно уже, года три назад, или четыре…
Печку затопила – и кранты. Потом говорили – кирная в дугаря была.
– Так, – после некоторого раздумья сказал Славка, – а мы-то причем здесь?
– Ты-то не причем, а братану твоему Любка загробное слово написала! Забыл, кажется: «Прощай, Антон, я сама виновата».
Он скроил гримасу и тяжело замотал головой.
– Не помню, что-то так. Хрена ли, когда было! Слушай, раз Антона это касается, то ему тоже ее помянуть надо?
– Хм! Это ты у него спроси, а я не против, – заключил неожиданно Славка, весьма склонный к такого рода предложениям. Ванька поднялся и сказал:
– Пошли к твоему извергу-братану. Счас мы его расколем!
– Давай-давай, – оживился Славка. – Неделю вкалываем на работе и на даче как каторжные! Малость передохнуть надо!
Подойдя к колонке, Славка наклонился к Антону и заговорщицки зашептал:
– Антоник, слышь, Антонюлечек? У нашего друга Ивана дело к тебе есть.
– Знаю я, какое это дело, – оборвал его Антон, – сейчас некогда! – Ты чего надумал? Целый день псу под хвост – нажраться с утра пораньше!
– Да не, не! – с жаром замотал головой Славка, – и не подумаю! Это у него к тебе дело.
– Ну, так узнай у него, в чем это дело, чего ему приспичило.
– Хм, в том-то и штука, что ты ему нужен, а не я. Вань, – обернулся Славка к стоявшему поодаль Ваньке, – приведи-ка свой аргумент. Ванька прокашлялся и сплюнул:
– Ну, ты даешь! Какую бабу загубил и даже помянуть не хочешь!
Антон с интересом открыл глаза:
– Ну-ну, у меня их много. Так какую же?
– До твоих нам дела нет, а нашу торфболотовскую фею не след забывать.
– Любку, что ли? Ну, а здесь я что совершил прелюбодейного? – ледяным тоном осведомился Антон.
– Такое прелюбодейное, наверное, дело совершил, что она прямиком к богу отправилась рассказать об этом.
Антон помолчал, а затем совсем уже зло спросил:
– У тебя что, Вань, в башке валеты тасуются? Поди, поспи еще малость.
Он сплюнул былинку, которую держал во рту, поднялся и взялся за ручку бидона:
– Слава, помоги. У нашего друга сегодня белая горячка, а она, говорят, заразная.
– Сам ты заразный! Я тебя, можно сказать, от многих неприятностей спас. Когда из милиции спрашивали про тебя, так я сказал, что ты не тот, про которого она записку... Понял? Гони стакан!
– А бидон не хочешь? – Антон с неприятным холодком слушал Ванькино известие и желал сейчас только одного – поскорее отделаться. Славка, сообразив, что мучает Антона, сказал примирительно:
– Слышь, Антон, пойдем к нему, выясним, а то и правда ерунда какая-то получается – алкашка дуба врезала, а ты виноват.
– Ладно, адвокат тоже нашелся! Тащи тележку, давай увяжем бидоны.
Славка нехотя сдвинулся с места и буркнул:
– Твое дело! Малость отдохнуть бы не помешало. К черту такую дачу, если на ней пупок надорвешь...
Он сокрушенно махнул рукой. Антон слушал Славкино брюзжанье и невольно думал о том звонке, тогда в январе, в день его рождения. Мила говорила ему, что кто-то звонил, какая-то женщина, расфыркалась по этому поводу как дикая кошка, устроив наутро сцену ревности. Только поэтому он помнил этот звонок, так как вечером был под изрядным «шафе» и не смог выяснить, кто же звонил. Антон смутно ощущал неприятное чувство вины, но отчего, почему – не мог понять. Вполне возможно, Ванька знает что-то, и это что-то не отпускает его отсюда помимо воли. Но уж очень часто в последнее время жизнь стала распоряжаться им помимо его воли. Вот и сейчас он должен совершить над собой, ставшее привычно-муторным, насилие. Вздохнув, Антон коротко бросил:
– Ладно, пошли…
Они докатили тележку до Ванькиного дома и оставили ее за калиткой. Ванька, довольный таким поворотом дела, суетливо предложил:
– У Тоньки самогон имеется. Давайте трешку – я сбегаю.
– Откуда у нас сейчас деньги? Вечером зайдешь на дачу. За нами не пропадет, у нас как в банке.
– Ну-у... – скривился разочарованно Ванька. – Так она не даст.
– А ты скажи, что для нас, да скорее! – поспешно вставил реплику Славка.
– Сам там думай, что и как!
– Сей момент, придумаю что-нибудь, – и Ванька скрылся в соседнем подъезде. Братья не успели переброситься и парой фраз, как он выскочил обратно с оттопыренной на груди майкой. Мотнув головой, он без слов проскочил мимо Славки и Антона в свой подъезд. Братья переглянулись, но реакция Ваньки оказалась еще быстрее. Он высунулся в окно и заорал, от возбуждения еще сильнее искажая свою дикцию:
– Долго вас ждать?! – Он матерно завершил свой вопль и, скрывшись в комнате, задернул занавеску.
– Гляди-ка, как его разбирает. – Славка поднялся. – Пошли, Антон. В комнате Ваньки им ударила в нос резкая застоявшаяся смесь запахов табачного дыма, нестираного тряпья и подгоревшей еды. Антон, весьма чувствительный к подобным ароматам, раздражённо выдохнул:
– Хуф-ф! Ты бы, Вань, окно открыл, что ли?
– Не, нельзя счас. – Ванька отрицательно замотал головой. – Погоди немного, примем по паре стопарей – тады лады.
– Да хоть форточку открой! У тебя как в сгоревшем сортире.
Антон двинулся было к окну, но Ванька, схватив его мокрой от мытья стаканов рукой, не дал подойти к спасительной щелке в окне.
– Ну, говорят тебе, примем, потом хоть двери настежь!
Антон, заинтригованный Ванькиной воздухобоязнью, смотрел на его лихорадочные приготовления. Его поспешность можно было бы оправдать жгучим желанием опохмелиться, но чтобы так при этом загораживаться от света и свежего глотка воздуха! Минуты не прошло, как они уже сидели на табуретках вокруг тумбочки, стоявшей посреди комнаты. Раньше на ней стоял телевизор, а теперь, с набитым сверху листом фанеры в полквадрата, она служила столом. Дальше, едва различимые в густом полумраке, окрестности комнаты зияли многозначительной пустотой.
Ванькина сверхторопливость объяснилась вскоре весьма прозаическим образом. Не успели они принять по «дозе», определенной Славкой, и едва Антон раскрыл рот с требованием разъяснений по случившемуся поводу, как из коридора раздался стук, сродни которому был разве что обвальный грохот отбойного молотка. От неожиданности Антон, едва не опрокинув стакан, поперхнулся огурцом, – лучшей закуской в скромном разносоле Ванькиного стола.
Через частую дробь прослушивались еще какие-то звуки, напоминающие нечто среднее между кошачьими воплями и милицейской сиреной. Несмотря на плотный сумрак, было заметно, как Ванька побледнел:
– О, пошла чесаться задом об топор! – в сердцах договорил он и сказал братьям: – Вы ничего не знаете – и все!
– А что случилось? – Славка, из житейской предосторожности, при первых же звуках из коридора глотнул вторую порцию, и теперь, морщась, закусывал.
– Что, что случилось!? Не слышишь, что ли? Из коридора, после утихшей канонады, действительно доносились реплики, прояснявшие ситуацию до предела: «Ах ты, алкаш! Стервец! Открывай, не то дверь разнесу! Я те рыло начищу!».
Фразы следовали одна за другой с пулеметной скоростью. Были среди них и малопонятные, пополам с непечатными, но все они сводились в основном к одной: «Отдай бутылку, сволочь б...ская!..».
– Кто это тебя так? – спросил Антон.
– Тонька, кто ж еще! – с тоской в голосе ответил Ванька.
– Что, назад требует? Ты что, не объяснил ей?
– Ничего я не объяснил. Ее не было дома. Я взял так. После вчерашнего осталось… Я видел, куда она припрятала. Кто ж ее знал, заразу, что хватится сейчас?! – простонал он.
– Придется открывать, Ваня! – сказал Славка и участливо посоветовал: – Ты хоть ведром или сковородкой голову прикрой. Неровен час…
– Нету ничего, – свистящим шепотом ответил Ванька. – Слушай, поди открой, а? Только голос сначала подай, не то перепутает, стерва!
– Ладно, Вань, не дрейфь, приму огонь на себя.
Славка, разогретый крепчайшим первачом, приобрел несокрушимую уверенность в своих силах. Он осторожно освободил свое огромное тело из тесного плена табуретки и хилой тумбочки и подошел к двери:
– Кто там? Его вопрос, видимо, вызвал у Антонины столь сильный стресс, что Славка, озадаченный долгим молчанием за дверью, вынужден был переспросить:
– Антонина, это ты, что ли?
Антонина, успевшая разобрать, что спрашивает ее не Ванька, голосом, обретшим неумолимость шагов командора, скомандовала:
– Ну! Долго я еще буду здесь торчать? Открывайте!
– Сейчас открою. Только ты брось свою колотушку подальше, чтоб слышно было. Немного спустя, в дальнем конце коридора что-то загремело, и Славка отодвинул засов. Дверь распахнулась – и на пороге возникла Антонина, с лицом красно-перечного цвета. Не давая ей произнести ни слова, Славка любезнейшим тоном, на какой только был способен, извлек из себя словесный елей:
– Антонюлечка! Господи, как же тебе идет это платье! Помню, точно такое же было на покойнице Любе, царство ей небесное! Поминаем ее, горемычную, но вот беда – ничего не взяли в убеждении искренности нашей памяти о ней! Друг наш Ваня сказал, что ты выручишь, что тебе не жалко этой чистой слезы на святое дело. Еще он сказал, что ты придешь, как только переоденешься, и мы сидим и ждем тебя. Истинная правда, а, Вань?
Тонька, выпустившая во время Славкиной тирады весь бойцовский запал, криво усмехнулась:
– О, нашел тему трепаться! – Она хотела еще что-то сказать, но махнула рукой и прошла в комнату. Ванька услужливо вскочил, подталкивая ей стул, на который Антонина уселась с видом царицы Савской.
– Это что у вас за конспирация такая? Темень и вони на целую помойку?
Ванька, ни слова не говоря, подскочил к окну и, отдернув занавески, распахнул створки.
Яркий поток света ворвался в комнату и… словно сотворил в ней чудо. Из убогого нищенского угла пьяницы, в котором четверо сидевших друг против друга людей справляли свою скромную трапезу, мощные сияющие лучи, коснувшиеся и этого запустения и этих людей, словно омыв их всепрощающей силой жизни, изваяли жертвенный алтарь. Может быть от этого или от чего‑то другого, более значительного, все они почувствовали, как их суетная меркантильная шутка обрела смысл и правду.
Трое мужчин и женщина, волей случая сошедшиеся вместе в этой комнатке, внезапно ощутили всю тончайшую высоту откровения, и просветление, сошедшее на них с небес, отделило от них грязь и скверну мира, несчастными детьми которого они были.
Невольным вздохом прервав этот высший знак небес, Антонина, как-то вдруг сникнув, севшим голосом сказала:
– Что ж, давайте помянем…
Выпили молча, и потом, не выпуская из рук стаканы, будто не зная, что с ними делать, опустили их на колени. Антонина, оборотив лицо к окну, сказала:
– Ваня, давай-ка споём Любину, любимую…
Она помолчала, будто ожидая чьей-то команды, потом коротким вздохом набрала воздуха – и на нём выдохнула первые слова. Иван тотчас же подхватил мотив – и эти двое стали ткать тонкий узор простой незатейливой песни:
Вьётся ласточка над лугом,
Развечерилась пора.
По шелковым травам с другом
Я гуляла до утра.
Ох, тальяночка, тальянка,
Ты воспой мою печаль.
Ничего уже не жалко,
Ту весну мне только жаль.
С неба звёздочкой упала
Друга милого любовь,
Затерялась и пропала,
Не вернуть её уж вновь!
Ох, тальяночка, тальянка,
Ты воспой мою печаль.
Ничего уже не жалко,
Ту весну мне только жаль.
Лето грозами прольётся.
И осеннею порой
Что‑то в сердце ворохнётся,
Вспомнив шёпот жаркий твой.
Ох, тальяночка, тальянка,
Ты воспой мою печаль.
Ничего уже не жалко,
Ту весну мне только жаль…